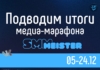Пожилым людям трудно говорить о годах, проведенных в трудармии. О годах, которые сначала замалчивались, а потом в учебниках по отечественной истории стали называться репрессиями против собственного народа. Годы, которые не были отмечены записями в их трудовых книжках, но оставившие глубокие шрамы на человеческих телах и судьбах.
Пожилым людям трудно говорить о годах, проведенных в трудармии. О годах, которые сначала замалчивались, а потом в учебниках по отечественной истории стали называться репрессиями против собственного народа. Годы, которые не были отмечены записями в их трудовых книжках, но оставившие глубокие шрамы на человеческих телах и судьбах.
-Шрам от кирки во весь лоб не дает забыть сорок второй год, — начала свой рассказ Елизавета Емельяновна. -Рассекли мне лоб, когда мы, трудармейцы, рыли канал под газопровод «Куйбышев — Москва». Хлынула кровь, зажала рану рукой, а сама думаю: куда идти, кто окажет помощь, ведь даже чистой тряпки нет. Выручили рабочие, здесь же, в канаве, замазали рану салидолом. Лицо отекло и всё болело, но никто больничных не выдавал, от работы не освобождал, так и работала дальше.
Первого декабря 1942 года шестнадцатилетнюю Лизу Кампферт с матерью Натальей Егоровной и двоюродной сестрой забрали в трудармию из села Гольбштадт. Дома остались одиннадцатилетний брат Иван и пятилетняя сестра Ида, отца ещё в марте 1942 года забрали в трудармию. Их участь разделили ещё две тысячи шестьсот сорок семь немцев Москаленского района с марта 1942 по апрель 1943 года. Больше месяца мобилизованных везли в телячьих вагонах до места назначения. Здесь Лиза впервые узнала, что такое голод, холод и воровство.
-О нас никто не заботился. Никого не волновало, чем мы питаемся, чем топим печь в вагоне, — вспоминает пожилая женщина. -Поэтому на остановках разбирали деревянные железнодорожные щиты (ими топились), меняли одежду на продукты, а когда было нечего менять — голодали. Поезд медленно двигался на запад, пропуская эшелоны, шедшие на передовую. Нас выгрузили на маленькой станции Тургеньевка, дальше шли пешком. Держали нас в полной информационной изоляции — ничего не объясняли, ничего не говорили, мы постоянно находились в напряжении. Но обиднее всего было, когда дошли до места назначения, а там работы не оказалось. Так нам её придумали. Ломами долбили лёд, освобождая лодки и баржи, которые через день замерзали вновь, и работа повторялась. Затем перебросили на строительство газопровода.
Горько вздохнула наша собеседница, смахнула набежавшие слёзы и продолжила:
-Здесь погибла моя подруга и соседка по селу Мария Бехтольд. Сколотили ей деревянный ящик и положили. Я же украла две белые простыни для неё, завернула. В них её и похоронили. А меня потом под следствие.
Многое пришлось пережить юной Лизе — непосильный труд, опухшее, непослушное от голода тело. Трижды бежала она домой. Один — вернули сразу, во второй раз через пересылку в Омске, тогда родной Гольбштадт она, через пелену слёз, увидела из окна тюремного вагона. В третий раз ей удалось добраться до дома и переночевать у родственников в Клаусе. Но человеческая подлость не имеет границ, сдали знакомые, которых родственники ещё и продуктами наделяли. Утром её забрали. Хорошо помнит наша собеседница, как лежала на земле, закинув руки за голову, а рядом рвались с поводка лающие псы, на семерых заключенных — восемь овчарок. Затем был лесоповал в Алтайском крае.
-Тюремная баланда, затем пайка на лесоповале, полуголодное существование. Стыдно вспоминать, как ходили по помойкам, остатки еды подбирали, — продолжила Елизавета Емельяновна. -Летом крапивный суп ели, где кроме крапивы и кипятка ничего не было. Всё думаю, почему я так долго живу? Наверное, на всю жизнь наелась целебного крапивного супа, — невесело пошутила хозяйка дома. — Бывало, давали горошницу. О том, что страна выиграла войну, узнали по двойной порции этой самой горошницы. Но видать, худа без добра не бывает, там, на лесоповале, встретила свою судьбу, моего мужа Давыда Ивановича Эрмиш. Там сошлись и стали жить. Ему тоже досталось от судьбы. Учился в танковом училище, в августе сорок первого должен был его окончить, но вместо службы был депортирован. Остался без родителей. Всю войну работал на лесоповале. В сорок шестом году нас освободили, и мы двенадцатого ноября этого года приехали ко мне на родину, в Москаленки. Стали строить жизнь здесь.
Так в сорок седьмом году в трудовой книжке у Елизаветы Емельяновны появилась первая запись — принята техничкой в кассу. Давыд Иванович был нарасхват — отличный художник и музыкант сразу нашел работу. В маленькой комнатке при кассе они и жили, укрываясь телогрейкой и шинелью, потихоньку обзаводясь имуществом. В сентябре 1948 года родилась первая дочь Галина.
-Приходит мой Давыд и говорит, что Галю отказываются регистрировать. Что, дескать, пока сами не распишитесь, ребенку свидетельство не дадут. Вот так мы и расписались, — с улыбкой сказала Елизавета Емельяновна. -Позже родились Гена и Ирина. Жили небогато, но в понимании и любви, поэтому, когда случилась беда — умерла моя сестра Ида — Давыд меня поддержал. Мы забрали четырехлетнюю Свету, дочь Иды, жить к себе, и воспитывали её так же, как и старших детей. Давыд великолепно рисовал. Каждому ребенку посвятил картину. А сколько он за жизнь лозунгов переписал! В Доме детского творчества кружки вёл, учил играть детей на балалайке и мандолине.
Рассматривая фотографии, документы, Почетные грамоты за долголетний и добросовестный труд (тридцать пять лет Елизавета Емельяновна проработала в Доме культуры), обнаружили, что есть фотокарточки тридцатых годов, но то, что связано было с трудармией, под табу.
-Молчали. Не хотели ни говорить, ни вспоминать. Дети росли, даже не зная о нашей доле, — пояснила Елизавета Емельяновна. -Говорили в семье на русском языке, чтобы не выделяться. Трудились хорошо. Когда в 1965 году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором все выдвинутые обвинения в Указе от 28 августа 1941 года были признаны необоснованными, стало легче. Можно было постоять за себя. Неприятно вспоминать, но это было. Я судилась с одной женщиной, которая меня оскорбила — назвала фашисткой, причем огульно, не зная как больнее «укусить». Потом извинялась, ведь ей «светило» пять лет за оскорбление нации. Не могу забыть ощущение вины, с которым мы жили, ежедневно доказывая, что мы такие же советские граждане, как и все остальные, что мы достойны доверия.
 Историю семьи дети узнали только в девяностые годы, когда стало возможно открыто говорить о репрессиях в отношении народов в Советском Союзе. Сейчас семьи Галины и Ирины живут в Германии, Геннадия — в Израиле, Светлана живет в Алма-Ате. Пять внуков у Елизаветы Емельяновны и три правнука. В январе, после тяжелой болезни, умер Давыд Иванович, не дожив всего нескольких лет до своего девяностого дня рождения.
Историю семьи дети узнали только в девяностые годы, когда стало возможно открыто говорить о репрессиях в отношении народов в Советском Союзе. Сейчас семьи Галины и Ирины живут в Германии, Геннадия — в Израиле, Светлана живет в Алма-Ате. Пять внуков у Елизаветы Емельяновны и три правнука. В январе, после тяжелой болезни, умер Давыд Иванович, не дожив всего нескольких лет до своего девяностого дня рождения.
— Никогда не было легко, — говорит Елизавета Емельяновна, — но самое сложное остаться одной. Шестьдесят пять лет вместе прожили. С его уходом нет частички меня. Дети зовут жить в Германию, а я не могу уехать из нашего дома. От дома, который он отказывался покидать. Храню воспоминания, они — моя жизнь. Хочу пожелать нашей современной молодежи, чтобы они ценили своих родителей, берегли и любили их. Не курите, не пьянствуйте, не занимайтесь наркоманией, этим вы разрушаете себя и разбиваете сердца родителей. Вы достойны другой жизни — полной здоровья и созидательного труда. Помните, какая трудная жизнь досталась нам. Пусть это будет исторический урок, где у памяти нет срока давности.
Двадцать восьмого августа в двенадцать часов дня в районном Доме культуры Немецкий центр проводит мероприятие «Жить, чтобы помнить», посвященное семидесятилетию трагических событий 1941 года. Приглашаются все депортированные и неравнодушные жители нашего района.
На снимке: Елизавета Емельяновна Эрмиш